РАЗВИТИЕ • ПРОЦЕСС
Киборги —
наше всё
наше всё
Когда технические проблемы
становятся гуманитарными
[02.11.2015]
становятся гуманитарными
[02.11.2015]
Ground встретился с филологами Анастасией Хаминовой и Надеждой Зильберман, сотрудниками кафедры гуманитарных проблем информатики философского факультета ТГУ и выяснил, что гуманитариям путь в команду «технарей» не заказан, наши страхи перед искусственным интеллектом необоснованны и попросил поделиться предположениями о ближайшем технологическом будущем.
О гуманитарных технологиях
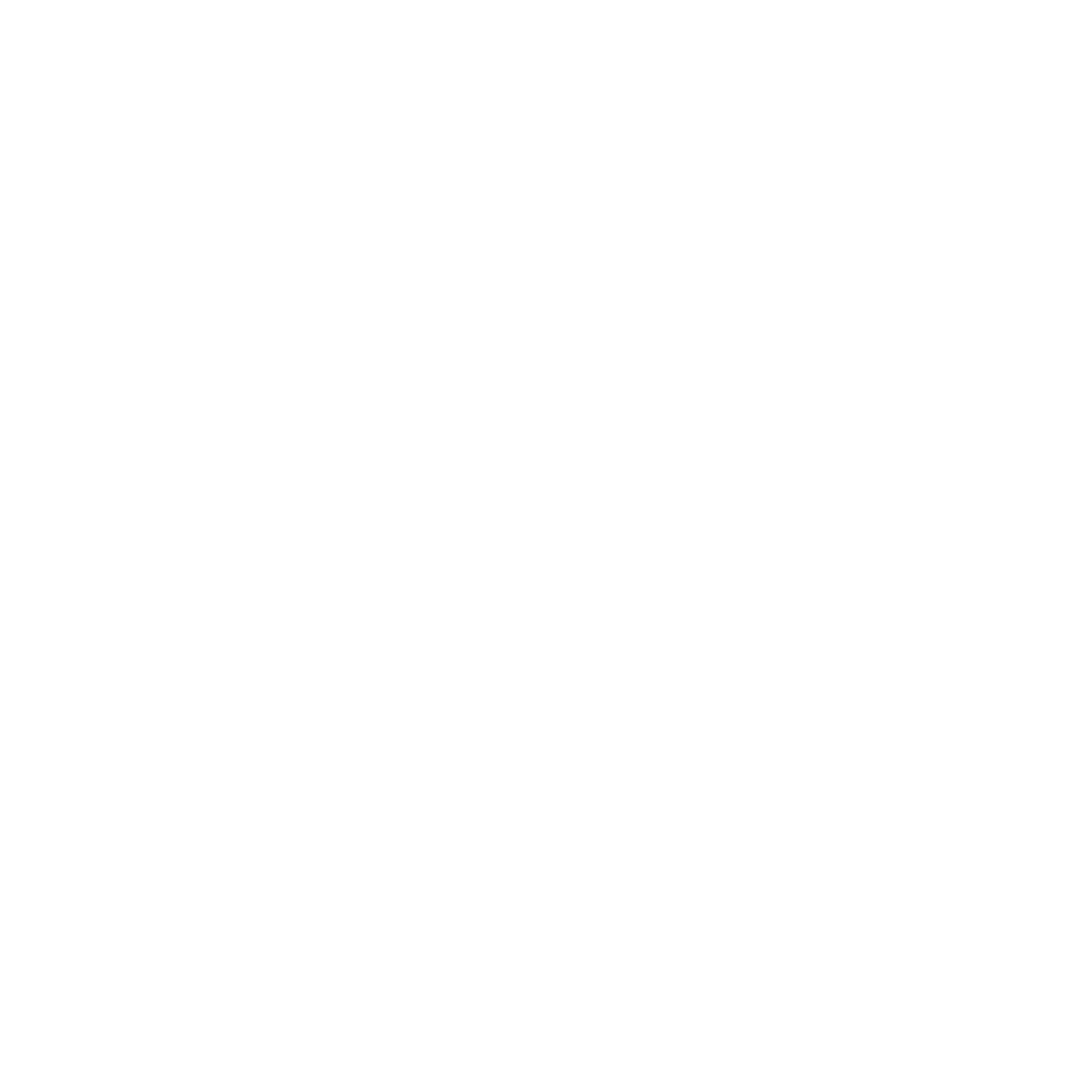
Анастасия
Хаминова
Хаминова
Сегодня наблюдается тенденция отказа от гуманитарного знания в пользу технического: в Японии, например, начали тотально сокращать гуманитарные факультеты. Это опасная ситуация, ведь гуманитарные науки помогают понять роль технологий в обществе, нащупать проблемы, которые можно решить с помощью технологических инструментов. Например, мы создаем все более прогрессивных роботов, которых нужно учить общаться с человеком — это конкретная задача для психологов, лингвистов. Здесь же встают этические вопросы: какие опасности за этим скрываются, может ли робот убить человека? Или стоит ли расценивать сознательную поломку машины как убийство?

Надежда
ЗИЛЬБЕРМАН
ЗИЛЬБЕРМАН
В самом начале создания кафедры «Гуманитарная информатика» на нас многие смотрели косо: «Что? Какие гуманитарные проблемы могут быть у информатики?» Зато сейчас у нас есть действительно цельная команда исследователей из разных областей. Получается, идет процесс сокращения гуманитарных наук в образовательный сфере, но в научной сфере, наоборот, в двадцать первом веке все больше становится междисциплинарных команд, куда включают гуманитариев.
А.Х.: Гуманитарные науки уже активно используют инструментарий технических, например, математические методы. Появились новые самостоятельные междисциплинарные исследования: историческая информатика, прикладная лингвистика, science art. Историческая информатика, например, активно использует методы 3D-моделирования, что помогает в проверке гипотез. Технологические инструменты помогают в сборе массивных данных по разным исследованиям, их обработке.
Я долгое время преподавала информационные технологии для людей разного возраста, где, в том числе, были участники старше 60 лет. В одной группе с ними могли находиться и двадцатилетние, и мы спокойно обсуждали общие темы
О коммуникациях и новых вызовах
А.Х.: Общаться люди не перестают, социальные сети укрепляют реальные социальные связи. Достаточно вспомнить, с кем мы общаемся: это не виртуальные люди, а люди из нашего ближайшего круга общения – коллеги, друзья, родные.
Н.З.: Я долгое время преподавала информационные технологии для людей разного возраста, где, в том числе, были участники старше 60 лет. В одной группе с ними могли находиться и двадцатилетние, и мы спокойно обсуждали общие темы. Я видела, что очень многие люди старшего возраста шикарно включаются в любой разговор.
А.Х.: С развитием новых технологий люди не будут меньше работать, им просто придется переключиться на решение новых задач. Например, в ближайшее время к «профессииям-пенсионерам» можно будет отнести менеджера по туризму, ведь в сети есть множество ресурсов, которые помогут тебе самому забронировать отель и купить билет на самолет, посредник в этом не нужен, но зато нужен будет виртуальный юрист, который сможет защитить вас, когда вы эти билеты будете возвращать.
Н.З.: Я часто слышу, как преподаватели говорят, что «студент нынче пошел не тот». Но я так не думаю. Сегодня акцент сместился на такие компетенции, как анализ и систематизация больших потоков информации, выстраивание иерархии, умение структурировать большой объем информации, сейчас это те навыки, которые отличают специалиста хорошего уровня.
А.Х.: У нас отпала потребность запоминать большие объемы информации, ведь мы имеем множество источников быстрого доступа к ней. Здесь можно вспомнить Шерлока Холмса, который не знал, как устроена солнечная система, зато знал массу другой информации и умел с ней работать, что делало его уникальным. Делается ставка на аналитическое мышление.
А.Х.: Общаться люди не перестают, социальные сети укрепляют реальные социальные связи. Достаточно вспомнить, с кем мы общаемся: это не виртуальные люди, а люди из нашего ближайшего круга общения – коллеги, друзья, родные.
Н.З.: Я долгое время преподавала информационные технологии для людей разного возраста, где, в том числе, были участники старше 60 лет. В одной группе с ними могли находиться и двадцатилетние, и мы спокойно обсуждали общие темы. Я видела, что очень многие люди старшего возраста шикарно включаются в любой разговор.
А.Х.: С развитием новых технологий люди не будут меньше работать, им просто придется переключиться на решение новых задач. Например, в ближайшее время к «профессииям-пенсионерам» можно будет отнести менеджера по туризму, ведь в сети есть множество ресурсов, которые помогут тебе самому забронировать отель и купить билет на самолет, посредник в этом не нужен, но зато нужен будет виртуальный юрист, который сможет защитить вас, когда вы эти билеты будете возвращать.
Н.З.: Я часто слышу, как преподаватели говорят, что «студент нынче пошел не тот». Но я так не думаю. Сегодня акцент сместился на такие компетенции, как анализ и систематизация больших потоков информации, выстраивание иерархии, умение структурировать большой объем информации, сейчас это те навыки, которые отличают специалиста хорошего уровня.
А.Х.: У нас отпала потребность запоминать большие объемы информации, ведь мы имеем множество источников быстрого доступа к ней. Здесь можно вспомнить Шерлока Холмса, который не знал, как устроена солнечная система, зато знал массу другой информации и умел с ней работать, что делало его уникальным. Делается ставка на аналитическое мышление.
Мы воспринимаем искусственный разум как человека,
со схожими эмоциями и мировоззрением, но будет ли это человек на самом деле? Будут ли его стремления такими, как у нас? Большой вопрос.
со схожими эмоциями и мировоззрением, но будет ли это человек на самом деле? Будут ли его стремления такими, как у нас? Большой вопрос.

Об искусственном
интеллекте
Н.З.: Принято деление на слабый и сильный искусственный интеллект. Слабый — это тот, что выполняет аналитические функции, использует простые алгоритмы, распознает образы, управляет самолетами, осваивает простые речевые роли — это уже повсюду. То же, что мы видим в фильмах, когда машины любят, убивают, хотят поработить — это сильный искусственный интеллект, способный к самосознанию. И возникает большой вопрос, если мы все же что-то подобное создадим (хотя многие в этом сомневаются, ведь мы даже не на подступах): зачем мы ему, чтобы нас порабощать? Использовать нас как рабочую силу бесполезно, роботы с этим гораздо лучше справляются. Использование человека как источника энергии? Тоже непонятно, насколько это хороший вариант. На самом деле эти страхи — лишь проекция наших страхов относительно нас самих. Мы воспринимаем искусственный разум как человека, со схожими эмоциями и мировоззрением, но будет ли это человек на самом деле? Будут ли его стремления такими, как у нас? Большой вопрос.
О будущем
новых технологий
Н.З.: Сначала был компьютер, который стоял дома или в офисе, потом телефон, который теперь всегда с нами, дальше — носимые гаджеты: часы, очки. Мы максимально соединяемся с машиной, и если принять во внимание, что биотехнологии — это наше все, то киборги — самое потенциальное будущее.
Мы не откажемся от технологий, мы зависимы уже не столько от них, сколько от техносферы, которую вокруг себя создали. Мы уже во многом потеряли навыки выживания в природных условиях, и будем продолжать совершенствовать только техносреду. Да, есть варианты соединить природную и техно- сферы. И это самый правильный путь: найти гармонию, так как конфликт неизбежен.
Теория технологической сингулярности предполагает, что примерно к 2045 году мы достигнем принципиально новой технологии. Говорить о том, будем ли мы готовы к этому, нельзя: общество всегда динамично, оно изменяется, это помогает ему выжить. Сегодня, как многие красиво говорят, мы на закате кремниевой эпохи, которая началась еще в пятидесятых годах прошлого века.
Тогда кремний принципиально изменил наши технологии, позволил сделать их меньше, портативнее, благодаря этому у нас есть, например, мобильные телефоны. Сейчас мы почти достигли предела развития этой технологии: мы просто не можем сделать транзисторы еще меньше. Ведутся исследования в поисках альтернативы, особенно много говорят о биотехнологиях. Так что вполне возможно, что к сорок пятому году что-нибудь произойдет. И если вспомнить, как изменил нас кремний, то эти изменения будут глобальными.
интеллекте
Н.З.: Принято деление на слабый и сильный искусственный интеллект. Слабый — это тот, что выполняет аналитические функции, использует простые алгоритмы, распознает образы, управляет самолетами, осваивает простые речевые роли — это уже повсюду. То же, что мы видим в фильмах, когда машины любят, убивают, хотят поработить — это сильный искусственный интеллект, способный к самосознанию. И возникает большой вопрос, если мы все же что-то подобное создадим (хотя многие в этом сомневаются, ведь мы даже не на подступах): зачем мы ему, чтобы нас порабощать? Использовать нас как рабочую силу бесполезно, роботы с этим гораздо лучше справляются. Использование человека как источника энергии? Тоже непонятно, насколько это хороший вариант. На самом деле эти страхи — лишь проекция наших страхов относительно нас самих. Мы воспринимаем искусственный разум как человека, со схожими эмоциями и мировоззрением, но будет ли это человек на самом деле? Будут ли его стремления такими, как у нас? Большой вопрос.
О будущем
новых технологий
Н.З.: Сначала был компьютер, который стоял дома или в офисе, потом телефон, который теперь всегда с нами, дальше — носимые гаджеты: часы, очки. Мы максимально соединяемся с машиной, и если принять во внимание, что биотехнологии — это наше все, то киборги — самое потенциальное будущее.
Мы не откажемся от технологий, мы зависимы уже не столько от них, сколько от техносферы, которую вокруг себя создали. Мы уже во многом потеряли навыки выживания в природных условиях, и будем продолжать совершенствовать только техносреду. Да, есть варианты соединить природную и техно- сферы. И это самый правильный путь: найти гармонию, так как конфликт неизбежен.
Теория технологической сингулярности предполагает, что примерно к 2045 году мы достигнем принципиально новой технологии. Говорить о том, будем ли мы готовы к этому, нельзя: общество всегда динамично, оно изменяется, это помогает ему выжить. Сегодня, как многие красиво говорят, мы на закате кремниевой эпохи, которая началась еще в пятидесятых годах прошлого века.
Тогда кремний принципиально изменил наши технологии, позволил сделать их меньше, портативнее, благодаря этому у нас есть, например, мобильные телефоны. Сейчас мы почти достигли предела развития этой технологии: мы просто не можем сделать транзисторы еще меньше. Ведутся исследования в поисках альтернативы, особенно много говорят о биотехнологиях. Так что вполне возможно, что к сорок пятому году что-нибудь произойдет. И если вспомнить, как изменил нас кремний, то эти изменения будут глобальными.
текст: Никита Пушкин, иллюстрации: Юстина Шалимова
фото: Екатерина Витман
фото: Екатерина Витман


